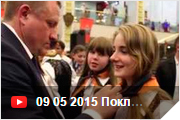«Что там, где она Россия, по какой рубеж своя...»

Лето 41-го было страшным. Враг неудержимо продвигался вперед. В сводках Инфорбюро постоянно звучал суровый голос Левитана, который сообщал что «после долгих и упорных боев наши войска оставили город...». Перед войной советский народ был уверен в своей Красной Армии. Пели «Если завтра война, если завтра в поход...». Надеялись сокрушить врага «малой кровью, могучим ударом». Агрессора должны были бить на его же территории. Но всего на второй неделе войны был захвачен Минск - столица Советской Белоруссии. В огне приграничных сражений сгорели, или были потеряны 10 000 танков советских мехкорпусов - казалось несокрушимая сила. Страна гордилась «сталинскими соколами». Но в небе господствовало германская авиация. Самолеты с черными крестами на крыльях и фюзеляжах шли в небе волна за волной.
Кадровые дивизии армий первого эшелона были окружены и разгромлены в приграничных сражениях. Шла мобилизация. Дивизии второго эшелона наскоро дополняли личным составом до штатов военного времени и спешно бросали в бой, желая остановить врага. Германским генералам удавалось с первых дней на решающих участках создавать подавляющее преимущество и громить советские армии по частям. Стремительные удары немецких танковых клиньев громили тылы, нарушали связь, войска теряли управление. Разбитые дивизии и армии вели тяжелейшие неравные бои.
На Запад тянулись длинные колоны советских пленных. Были захвачены огромные трофеи. Но надо понимать, что в этих многотысячных колонах пленных были огромное количество тыловых и вспомогательных частей, попавших в окружение. Были, конечно, и те, кто бросал оружие и поднимал руки при криках «Окружили, конец!». Многие в первые дни войны оказались в растерянности, испытывали состояние шока. Целые подразделения оставались без боеприпасов, продовольствия, случалось, не было командования. А в небе немецкая авиация - волна, за волной. Выматывающие душу бомбежки. Враг двигался по русским дорогам неудержимой лавиной на бронетранспортерах, мотоциклах. Мощные грузовики «опели» и «мерседесы» везли немецкую пехоту. И, казалось везде германские танки с тевтонскими крестами. Немцы шли по русской земле сильные, сытые, самоуверенные, в не сомневаясь своем полном превосходстве, отлично вооруженные, в прекрасной экипировке. Казалось нашествию такой мощной силы противостоять невозможно.
В первые недели войны германской армии, похоже, удается все. Но читая дневники немецких генералов, видишь, что они явно начинают ощущать беспокойство. «Колосс на глиняных ногах» не рухнул от могучего удара. С первого дня войны советские летчики поднимали в небо свои самолеты, уцелевшие после ударов по аэродромам, и вступали в неравные бои с германской авиацией. Горели и падали на землю «юнкерсы», 22 июня был совершен русским летчиком и первый таран.
Упорно, до последнего патрона бились пограничные заставы. Месяц гремели выстрелы в Брестской крепости. Волевые и сильные духом командиры полков, дивизий и корпусов Красной Армии, не подаваясь панике, собирали свои подразделения, организовывали грамотную оборону. И не смотря на подавляющее превосходство германских войск, упорно дрались, стараясь сдержать натиск противника в казалось бы безнадежных ситуациях. Настойчиво стремились наносить врагу контрудары. Первое серьезное оборонительное сражение, в котором удалось остановить немцев, разгорелось, как и в 1812 году, под древним Смоленском.
Записи в дневниках немецких генералов полностью опровергают рассуждения о том, что солдаты Красной Армии летом 41-го года не желали воевать, и тысячами бросали оружие.
Гальдер: 29 июня 8 день войны: «...сведения с фронта подтверждают, что русские всюду сражаются до последнего человека». «Танковые подразделения понесли значительные потери в личном составе и материальной части».
Гот: «Упорное сопротивление русских заставляет нас вести войну по всем требованиям боевых уставов. Если в Польше и Франции мы могли позволить себе вольности, то здесь это недопустимо».
Германская газета «Фелькишер беобахтер»: «психологический паралич, который обычно следовал за молниеносными германскими прорывами на Западе, не наблюдается в такой степени на Востоке. В большинстве случаев противник не только не теряет способности к действию, но в свою очередь пытается охватить германские клещи».
«Русский солдат превосходит нашего противника на Западе своим презрением к смерти. Выдержка и фатализм заставляет его держаться до тех пор, пока он не убит в окопе или не падает мертвым в рукопашной хватке».
Из дневника немецкого офицера: «Нет чувства, что мы вступили в побежденную страну, как это было во Франции. Вместо этого - сопротивление и только сопротивление, каким бы безнадежным оно не было...»
Таких свидетельств из дневников немецких генералов и офицеров можно привести множество. Общий вывод - в России идет совершенно иная война, чем война на Западе. Русские сражаются очень упорно и немецкая армия, несмотря на свое превосходство, несет тяжелые потери.
Гитлер, начиная войну, был уверен, что арийский слой в России уничтожен. И остались азиатские толпы, которых гонят в бой еврейские комиссары. Но, как правильно заметил Иван Солоневич, вместо героев Зощенко и Платонов Каратаевых он встретил совсем иных русских людей. И эти люди вовсе не собирались сдаваться на милость победителя. Русские солдаты и командиры, не бросая оружия, упорно пробивались из германских «котлов» и окружений на Восток. Не Платон Каратаев, а Василий Теркин встретил надменного врага летом 41-го года.
Твардовский замечательно написал в своей гениальной поэме о том, что происходило в те дни.
«Доложу хотя бы вкратце,
Как пришлось нам в счет войны
С тыла к фронту пробираться
С той, с немецкой стороны.
Как с немецкой, с той зарецкой
Стороны, как говорят,
Вслед за властью за советской,
Вслед за фронтом шел наш брат.
Шел наш брат, худой, голодный,
Потерявший связь и часть,
Шел поротно и повзводно,
И компанией свободной,
И один, как перст, подчас.
Полем шел, лесною кромкой,
Избегая лишних глаз,
Подходил к селу в потемках,
И служил ему котомкой
Боевой противогаз.
Шел он, серый, бородатый,
И, цепляясь за порог,
Заходил в любую хату,
Словно чем-то виноватый
Перед ней. А что он мог!
И по горькой той привычке,
Как в пути велела честь,
Он просил сперва водички,
А потом просил поесть.
Тетка - где ж она откажет?
Хоть какой, а все ж ты свой,
Ничего тебе не скажет,
Только всхлипнет над тобой,
Только молвит, провожая:
- Воротиться дай вам бог...
То была печаль большая,
Как брели мы на восток.
Шли худые, шли босые
В неизвестные края.
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя...»
Пробивались из окружения и поредевшие части и группы отдельных бойцов и командиров. Пробивались к своим, чтобы дальше сражаться со страшным врагом. Пробивались, не теряя присутствия духа.
«Шли бойцы за нами следом,
Покидая пленный край.
Я одну политбеседу
Повторял: - Не унывай.
Не зарвемся, так прорвемся,
Будем живы - не помрем.
Срок придет, назад вернемся,
Что отдали - все вернем.
Самого б меня спросили,
Ровно столько знал и я,
Что там, где она, Россия,
По какой рубеж своя?»...
«Из под крепости Брест...»
Целые части и отдельные группы бойцов упорно прорывались на Восток, сворачивая на самокрутки немецкие листовки с призывами сдаваться. В этих листовках сообщалось о 6 млн. пленных, о полном разгроме сталинских армий, о том, что германские войска взяли Минск, Смоленск, подходят к Москве. Обещали жизнь и хорошие условия жизни в плену.
Константин Симонов был свидетелем и участником этих тяжелейших боев. И в своем романе «Живые и мертвые» документально описал один из подвигов русских солдат выходивших из окружения:
«- Товарищ политрук, - услышал он за спиной негромкий знакомый голос Хорышева.
- Что случилось? - спросил Синцов, повернувшись и с тревогой заметив признаки глубокого волнения на обычно невозмутимо веселом мальчишеском лице лейтенанта.
- Ничего. Орудие в лесу обнаружили. Хочу комбригу доложить.
Хорышев по-прежнему говорил негромко, но, наверное, Серпилина разбудило слово «орудие». Он сел, опираясь на руки, оглянулся на спящего Шмакова и тихо поднялся, сделав знак рукой, чтобы не докладывали во весь голос, не будили комиссара. Оправив гимнастерку и поманив за собой Синцова, он прошел несколько шагов в глубь леса. И только тут наконец дал Хорышеву возможность доложить.
- Что за орудие? Немецкое?
- Наше. И при нем пять бойцов.
- А снаряды?
- Один снаряд остался.
- Небогато. А далеко отсюда?
- Шагов пятьсот.
Серпилин повел плечами, стряхивая с себя остатки сна, и сказал, чтобы Хорышев проводил его к орудию.
Синцову хотелось по дороге узнать, почему у всегда спокойного лейтенанта такое взволнованное лицо, но Серпилин шел всю дорогу молча, и Синцову было неудобно нарушать это молчание.
Через пятьсот шагов они действительно увидели стоявшую в гуще молодого ельника 45-миллиметровую противотанковую пушку. Возле пушки на толстом слое рыжей старой хвои сидели вперемежку бойцы Хорышева и те пятеро артиллеристов, о которых он доложил Серпилину.
При появлении комбрига все встали, артиллеристы чуть позже других, но все-таки раньше, чем Хорышев успел подать команду.
- Здравствуйте, товарищи артиллеристы! - сказал Серпилин. - Кто у вас за старшего?
Вперед шагнул старшина в фуражке со сломанным пополам козырьком и черным артиллерийским околышем. На месте одного глаза у него была запухшая рана, а верхнее веко другого глаза подрагивало от напряжения. Но стоял он на земле крепко, словно ноги в драных сапогах были приколочены к ней гвоздями; и руку с оборванным и прожженным рукавом поднес к обломанному козырьку, как на пружине; и голосом, густым и сильным, доложил, что он, старшина девятого отдельного противотанкового дивизиона Шестаков, является в настоящее время старшим по команде, выведя с боями оставшуюся материальную часть из-под города Бреста.
- Откуда, откуда? - переспросил Серпилин, которому показалось, что он ослышался.
- Из-под города Бреста, где в полном составе дивизиона был принят первый бой с фашистами, - не сказал, а отрубил старшина.
Наступило молчание.
Серпилин смотрел на артиллеристов, соображая, может ли быть правдой то, что он только что услышал. И чем дольше он на них смотрел, тем все яснее становилось ему, что именно эта невероятная история и есть самая настоящая правда, а то, что пишут немцы в своих листовках про свою победу, есть только правдоподобная ложь и больше ничего.
Пять почерневших, тронутых голодом лиц, пять пар усталых, натруженных рук, пять измочаленных, грязных, исхлестанных ветками гимнастерок, пять немецких, взятых в бою автоматов и пушка, последняя пушка дивизиона, не по небу, а по земле, не чудом, а солдатскими руками перетащенная сюда с границы, за четыреста с лишним верст... Нет, врете, господа фашисты, не будет по-вашему!
- На себе, что ли? - спросил Серпилин, проглотив комок в горле и кивнув на пушку.
Старшина ответил, а остальные, не выдержав, хором поддержали его, что бывало по-разному: шли и на конной тяге, и на руках тащили, и опять разживались лошадьми, и снова на руках...
- А как через водные преграды, здесь, через Днепр, как? - снова спросил Серпилин.
- Плотом, позапрошлой ночью...
- А мы вот ни одного не переправили, - вдруг сказал Серпилин, но хотя он обвел при этом взглядом всех своих, они почувствовали, что он упрекает сейчас только одного человека - самого себя.
Потом он снова посмотрел на артиллеристов:
- Говорят, и снаряды у вас есть?
- Один, последний, - виновато, словно он недоглядел и вовремя не восстановил боекомплект, сказал старшина.
- А где предпоследний истратили?
- Тут, километров за десять. - Старшина ткнул рукою назад, туда, где за лесом проходило шоссе. - Прошлой ночью выкатили к шоссе в кусты, на прямую наводку, и по автоколонне, в головную машину, прямо в фары дали!
- А что лес прочешут, не побоялись?
- Надоело бояться, товарищ комбриг, пусть нас боятся!
- Так и не прочесывали?
- Нет. Только минами кругом все закидали. Командира дивизиона насмерть ранили.
- А где он? - быстро спросил Серпилин и, не успев договорить, уже сам понял, где...
В стороне, там, куда повел глазами старшина, под громадной, старой, до самой верхушки голой сосной желтела только что засыпанная могила; даже немецкий широкий тесак, которым резали дерн, чтобы обложить могилу, еще не вынутый, торчал из земли, как непрошеный крест.
На сосне еще сочилась смолой грубая, крест-накрест зарубка. И еще две такие же злые зарубки были на соснах справа и слева от могилы, как вызов судьбе, как молчаливое обещание вернуться.
Серпилин подошел к могиле и, сдернув с головы фуражку, долго молча смотрел на землю, словно стараясь увидеть сквозь нее то, чего уже никому и никогда не дано было увидеть, - лицо человека, который с боями довел от Бреста до этого заднепровского леса все, что осталось от его дивизиона: пять бойцов и пушку с последним снарядом.
Серпилин никогда не видел этого человека, но ему казалось, что он хорошо знает, какой это человек. Такой, за которым солдаты идут в огонь и в воду, такой, чье мертвое тело, жертвуя жизнью, выносят из боя, такой, чьи приказания выполняют и после смерти. Такой, каким надо быть, чтобы вывести эту пушку и этих людей. Но и эти люди, которых он вывел, стоили своего командира. Он был таким, потому что шел с ними...
Серпилин надел фуражку и молча пожал руку каждому из артиллеристов. Потом показал на могилу и отрывисто спросил:
- Как фамилия?
- Капитан Гусев.
- Не записывай. - Серпилин увидел, что Синцов взялся за планшет. - И так не забуду до смертного часа. А впрочем, все мы смертны, запиши! И артиллеристов внеси в строевой список! Спасибо за службу, товарищи! А ваш последний снаряд, думаю, выпустим еще сегодня ночью, в бою».
Это свидетельство Константина Симонова и есть правда о сражениях лета 41-го года. Правда о подвиге Русского солдата. А не правдоподобная ложь Сванидзе и некоторых наших православных писателей, такая же, как и правдоподобная ложь гитлеровских листовок.
Конечно, бились наши солдаты не за учение «Маркса-Ленина». Но с первых же дней войны они знали, что сражаются, по словам Сталина за «свою вечную Россию-матушку». Объяснять им ничего не надо было. Враг пришел на Русскую землю. Константин Симонов необыкновенно точно выразил то, что чувствовали тем летом русские люди в стихотворении посвященном участнику этих боев Алексею Суркову.
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди,
Как кринки несли нам усталые женщины,
Прижав, как детей, от дождя их к груди,
Как слезы они вытирали украдкою,
Как вслед нам шептали: - Господь вас спаси! -
И снова себя называли солдатками,
Как встарь повелось на великой Руси.
Слезами измеренный чаще, чем верстами,
Шел тракт, на пригорках скрываясь из глаз:
Деревни, деревни, деревни с погостами,
Как будто на них вся Россия сошлась,
Как будто за каждою русской околицей,
Крестом своих рук ограждая живых,
Всем миром сойдясь, наши прадеды молятся
За в бога не верящих внуков своих.
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина -
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Не знаю, как ты, а меня с деревенскою
Дорожной тоской от села до села,
Со вдовьей слезою и с песнею женскою
Впервые война на проселках свела.
Ты помнишь, Алеша: изба под Борисовом,
По мертвому плачущий девичий крик,
Седая старуха в салопчике плисовом,
Весь в белом, как на смерть одетый, старик.
Ну что им сказать, чем утешить могли мы их?
Но, горе поняв своим бабьим чутьем,
Ты помнишь, старуха сказала:- Родимые,
Покуда идите, мы вас подождем.
«Мы вас подождем!» - говорили нам пажити.
«Мы вас подождем!» - говорили леса.
Ты знаешь, Алеша, ночами мне кажется,
Что следом за мной их идут голоса.
По русским обычаям, только пожарища
На русской земле раскидав позади,
На наших глазах умирали товарищи,
По-русски рубаху рванув на груди.
Нас пули с тобою пока еще милуют.
Но, трижды поверив, что жизнь уже вся,
Я все-таки горд был за самую милую,
За горькую землю, где я родился,
За то, что на ней умереть мне завещано,
Что русская мать нас на свет родила,
Что, в бой провожая нас, русская женщина
По-русски три раза меня обняла.
Летом 41-го года очень редко давали медали и ордена. Большинство героев тех боев остались безвестными. В похоронках, которые получили их родные, очень часто написано: «пропал без вести». Но именно они заставили забуксовать прекрасно отлаженную машину Вермахта. Именно их подвиг заставит германских генералов назвать лето 41-го года «летом несбывшихся надежд, летом успехов, которые так и не переросли в победу».



 24 сентября 2021 г.
24 сентября 2021 г. 17 марта 2021 г.
17 марта 2021 г. 29 сентября 2020 г.
29 сентября 2020 г.